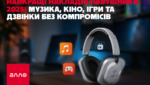Один из ведущих политологов Пал Тамаш рассказал «і» о сущностной природе нынешнего глобального финансово-экономического кризиса
Один из ведущих политологов постсоциалистического мира Пал Тамаш рассказал «і» о сущностной природе нынешнего глобального финансово-экономического кризиса, а также о необходимости осознания Украиной своего периферийного положения в мировых раскладах
Вопрос: Как бы вы охарактеризовали нынешний мировой финансовый кризис? В чем сущность процессов, которые можно назвать кризисными?
Ответ: В последние месяцы о кризисе у нас говорят в трех терминологических системах. Вначале под финансовым кризисом в дискуссиях понимали глобальные процессы, связанные с появлением и использованием новых финансовых инструментов. Дискурс был сосредоточен на «американском происхождении» кризиса и на том, что финансовая глобализация существенно оторвалась от социальной или политической глобализации. Отсюда необходимость ввести или частично восстановить какую-нибудь систему контроля (хотя сразу возникает масса вопросов: во имя чего, от кого, исходя из каких критериев оптимальности?) над ними.
Два или три месяца спустя возникла опасность, а затем и реальность мировой экономической рецессии или депрессии. Исчезли свободные деньги, вследствие чего резко сократилось число реальных покупателей. Поэтому товары, которые производились в отдельных странах и отраслях, фактически стали ненужными. Важным показателем кризиса стало перепроизводство (а не дефицит, как это было в кризисные годы позднего государственного социализма). А если не нужны товары, временно исчезает потребность в их производителях. Поэтому рост безработицы, полной или частичной, становится очевидным. Если же у человека нет работы или он боится ее потерять, его потребительские возможности сокращаются. Отсюда — дальнейшее сокращение спроса.
Это, казалось бы, элементарные истины, о которых в последние месяцы говорили тысячу раз. Но здесь появляется третья интерпретация кризиса — фактическое рассасывание того экономического или социально-политического миропорядка, который мы после 1989-1991 гг. считали эталоном нормальности. Вспомните, тезис о «возвращении к нормальной жизни» был чуть ли не любимым оборотом перестроечной и раннедемократической публицистики во всем посткоммунистическом регионе. Я сам писал и говорил об этом с пафосом, который сейчас вспоминается с легкой насмешкой. Можно долго рассуждать о том, что мы думали об этой «нормальности» и как мы до определенной степени сами сложили ее из чрезвычайно разнородных культурных, политических, моральных и экономических элементов, которые в реальности не были органически связанными. Тем не менее эту смесь мы называли капитализмом, который хотелось бы иметь. Конечно, капитализм как таковой еще не мертв, но той виртуальной реальности капитализма, которую мы хотели иметь, уже никогда не будет. И чем лечить этот третий недуг (или структурный дефицит), мы не знаем.
В: Не является ли временами фактор кризиса своеобразным жупелом, информационным симулякром, используя который, национальные правительства и бизнес-элиты решают свои проблемы и оправдывают свои просчеты?
О: Кризис, безусловно,— реальный процесс: сокращается производство, исчезают отлаженные механизмы купли-продажи, лопаются банки, многие теряют рабочие места, компании и фирмы вынуждены пересматривать свои прежние бизнес-планы. Я бы не назвал этот процесс симулякром. Другое дело, что довольно часто в публичном дискурсе его обсуждения причины и следствия меняются местами. Видимо, из-за незнания, испуга, а временами — и вполне сознательно под предлогом «выхода из кризиса» многие элитные группы решают свои политические, организационные и даже личные проблемы. Это вполне естественно для каждого большого проекта. Но здесь можно идентифицировать и свою, местную восточноевропейскую или же посткоммунистическую специфику. Дело в том, что от наших элит и публичных интеллектуалов и местная публика, и зарубежные друзья, и покровители ожидают неких сверхпланов, суперпрограмм.
Сначала таким суперпроектом был транзит, создание основ рыночной экономики и парламентской демократии. Потом, во второй половине и в конце 90-х, началась эпоха приверженцев реформ. Сейчас политикам приходится всеми средствами «бороться с кризисом». А быть прогрессистом в данном регионе означает поддержку масс-медиа и позитивный зарубежный имидж. Поэтому, независимо от реальных дел, для всех игроков политического поля необходимо иметь на челе соответствующую печать. Без этого ты никто, и даже при серьезном желании бороться с кризисом не сможешь ничего добиться. На тебя просто не будут обращать внимание.
В: Кризис — это своего рода болезнь, излечившись от которой, мы обретаем иммунитет. Иммунитет на что выработает западная цивилизация в результате нынешнего кризиса?
О: Кризис подобного типа, наверное, является серьезным опытом для самоощущения каждого поколения. Это — тот опыт, который так просто не передается другим в межпоколенческой коммуникации. Кризис формирует соответствующую медиа-культуру, которую можно назвать вслед за немецким обществоведом Хоргом «кризистайнментом», развлечением публики кризисом. Конечно, в этом развлечении много сознательного запугивания. Здесь начинается поиск виноватых, конструирование новых или же реанимация старых врагов, но все это — как в кино и не воспринимается слишком серьезно. Это — своеобразная игра воображения. Однако по мере продвижения вглубь туннеля тьма становится реальной. Повседневность наполняется ужасом. И тогда мы по-прежнему пытаемся играть в игры и цепляться за мысленные образы, пару месяцев назад предложенные нам «кризистайнментом», но эти модели по-настоящему уже не лечат.
В конце концов каждая религия имеет свою версию грехопадения, наказания за это, Страшного суда, Апокалипсиса. Но мы живем в секуляризированном обществе. И если мы позволяем себе столь игриво относиться к старым системам веры, включая указанные мотивы, то почему мы должны более серьезно относиться к конструктам, которые до боли напоминают нам старые добрые мифы? Кризис нужен нам для современной интерпретации Страшного суда, но что поделаешь, если у нас нет универсальной концепции добра и зла, без которой даже обычный суд невозможен. То есть — если угодно, можно назвать это банализацией, попсой старых социальных и моральных ориентиров.
И здесь бросается в глаза еще один вопрос, влияющий на восприятие кризиса,— взаимоотношение восприятия цикличного и линейного. Наше новейшее мировоззрение в постиндустриальном мире — линейное, связанное с технократическими представлениями о росте (экономическом, технологическом, росте научного знания и даже социальной справедливости). А кризисы по природе цикличны! Что делать с циклическими процессами в этом линейном мироздании? Они никак не включаются в нашу общую схему, но, видимо, все-таки нужны для успешной социальной мобилизации среднего класса в таких ситуациях. У нас есть или были более или менее работающие техники мобилизации масс через умеренный рост потребления в процессе трансформации. Но, увы, нет таких техник для среднего класса на более поздних этапах развития. Тем не менее, предлагая вероятность потери достигнутого статуса, видимо, можно мобилизовать даже более равнодушные и циничные слои общества.
В: Можно ли идентифицировать специфические черты кризиса в странах Восточной Европы и бывшего СССР?
О: Во-первых, в постсоветских экономиках мы имеем дело не со свободным рынком или реальным неолиберализмом, а с различными разновидностями госкапитализма. Если в атлантических вариантах капитализма именно неолиберальные модели подвергаются жесткой критике и сейчас активно обсуждаются или внедряются с надеждой на спасение элементы госрегулирования, то здесь, когда лопаются существующие структуры, никто всерьез не думает, что наши госструктуры с существующим кадровым потенциалом способны эффективно спасать кого-либо.
Во-вторых, наши экономические модели образца «пост 1989-1991 годов» были и есть различными вариантами зависимого развития на полупериферии мировой экономики. Мы знали это, но практически никогда не рассматривали наши различные экономические или же политические реакции как полупериферийные. Кроме этого, под трансфером западных институтов — и это основа всех западнических, «демократических» политических моделей — подразумевалась простая диффузия институтов из центра. А «быть на периферии» — это не второстепенное качество, а определенное состояние, которое требует адекватного обращения. Кстати, многие отличные латиноамериканские теоретики знали это в 1970-х. Сейчас же стало очевидным, что у периферии — азиатской, латиноамериканской, восточноевропейской — много общего. Да и средства помощи, предлагаемые МВФ для постсоветских стран, в значительной степени копируют прежние латиноамериканские схемы спасения. Так, венгерский пакет — очень близкий родственник известного мексиканского пакета конца 1990-х.
Сегодня наша специфика связана не с «внутренней посткоммунистичностью», а со сложившимися здесь моделями госкапитализма и периферийности. Внутри этих кластеров конкретные комбинации дают различные формы кризиса. Но это уже частности. Хотя, конечно, уже общепризнанные модели кризиса — венгерская, латышская и украинская — выглядят довольно разными.
В: Финансовый кризис в Украине совпал с острым внутриполитическим кризисом. Отразится ли этот факт на конфигурации элит в свете грядущих президентских выборов и в более отдаленной перспективе?
О: Национальные элиты понимают растущую уязвимость своих экономик, даже испытывают страх по этому поводу. Но выводы делают очень разные. В подавляющем большинстве стран элиты пытаются иногда серьезно, иногда на поверхностном уровне консолидироваться. Моряки ведь не любят, когда во время шторма начальство на капитанском мостике на виду у всех дерется. И этих капитанов, рулевых и прочих, даже если корабль преодолеет опасную зону, уважать уже не будут. Но есть командиры, которые рады шторму: подвернулся отличный способ сбросить в воду конкурента и списать все на погодные условия. С точки зрения внешнего наблюдателя, украинские власти избрали именно второй вариант. Но это гибельный сценарий даже для капитана, выжившего в политической битве. Ведь все видели драку и причины того, почему он «остался в живых». Сейчас это многими воспринимается трагически. Но я думаю, что на своем посту не останется и выживший таким неблаговидным способом. Потому открывается путь к власти для новых элитных группировок, и кризис политической власти последних лет сам по себе рассасывается.
В: Кто из нынешних политических игроков может получить в результате кризиса максимальные электоральные дивиденды?
О: Если все три главные украинские политические силы потеряют доверие, а прежние структуры экономической власти будут по-разному расшатаны, то чисто политические технологии могут стать более важными, чем обычно. И это вполне может случиться. Большой капитал востока уже натолкнулся на свои технологические и организационные границы в новой географии мирового экспорта. Но трудно представить и ускоренную «галицинизацию» всей страны в качестве программы решения главных задач, стоящих сейчас перед украинским государством. Наконец, международные пакеты спасения сделают труднореализуемыми те протекционистские мечты, которыми кормят себя центральноукраинские хозяйственники, поддерживающие в данный момент политиков-популистов.
Также пока неизвестно, какими будут последствия газового спора для европейских союзнических отношений различных групп украинской элиты. Я не разбираюсь в конкретных деталях спора и не знаю, какое положение дел выгодно для одной украинской группировки и невыгодно для другой. Но знаю одно: европейцам нравится, когда украинская элита, пусть даже виртуально, показывает Москве кулак. Но те же европейцы не терпят, когда из-за этого газ не доходит до их ванных и кухонь. Москва это, конечно, знает, и поэтому, несмотря на экономические потери, у нее больше времени, чем у украинцев. Поэтому Евросоюз сейчас давит на украинскую элиту, которая в конце концов должна будет согласиться с формой контроля транзитных газовых поставок, сужающей ее символический суверенитет. Ведь здесь продавец и покупатель устанавливают для себя экстерриториальные права на чужой для них территории. Подобная схема понятна в Сомали или на какой-нибудь территории, контролируемой пиратами, но для Европы это выглядит довольно непривычно. С этой точки зрения неважно, кто выиграет, а кто проиграет в самой Украине. Значимо то, что здесь сужается международное поле для всего украинского политического класса.
В: Существует ли в Украине интеллектуальная элита как консолидированная социальная группа? Если да, то какова ее роль в преодолении кризиса?
О: Интеллигенция является одной из наиболее уязвимых групп общества во время кризиса. Ведь они преимущественно бюджетники. И с них напуганное государство (или госчиновники, которые пока только играют в испуг) уж точно попытаются содрать шкуру (ту, свежую, которая только что выросла после аналогичной процедуры 90-х). Но это — не чисто посткоммунистический механизм. Ведь известный немецкий философ Юрген Хабермас тоже размышляет сейчас о том, насколько «вопиющая несправедливость» заставит лузеров глобализации оплачивать страховки ее победителей. Это происходит и в США, и в Западной Европе, и, конечно, в более явной форме мы видим это в посткоммунистическом мире.
В: Что бы вы пожелали несколько виртуальному представителю украинского среднего класса?
О: Самым интересным, наверное, здесь является поведение элит. Ведь восточноевропейский средний класс копирует не аналогичные группы на Западе, а в более дешевом, упрощенном, урезанном виде потребительские модели местных элит. Политологов-аналитиков сейчас волнует вопрос, какая доля сегодняшних постсоветских элит, деловых и политических, сохранит свое влияние и статус к 2020 г.? Но меня больше интересует, каким образом и в какую сторону идет преобразование существующего социального и экономического порядка стратегии и ценности этих элит. Под влиянием нынешнего экономического кризиса везде на виду реинтерпретация стиля потребления. Но демонстративное потребление в последние годы по-разному воспринималось в культурах индустриальных центров. Если американские элиты действительно демонстративно тратили заработанное или полученное, то европейские континентальные элиты в этом плане были, возможно, более скромными или более замкнутыми. Постсоветские элиты подражали в этом американцам, центральноевропейские — аналогичным группам в Западной Европе. Под влиянием кризиса американские модели элитного потребления стали менее яркими, возможно, более умеренными. В этом смысле происходит определенная тевтонизация (онемечивание) американской модели. Как реагируют на это восточноевропейцы? Удалось ли местным элитам почти за 20 лет самоутвердиться настолько, что они смогут обойтись без ежеминутной демонстрации своей власти и статуса? Или западная калька снова автоматически заработает, и они откажутся от экстремального потребления даже тогда, когда внутренняя потребность в нем остается? А если часть нынешних элит исчезает (например, уходит из бизнеса и политики, вывозит собранное добро за рубеж, исчезает из масс-медиа) и на их месте появляются новые группы (например, из сегодняшних госчиновников), приведет ли это к делению российских и украинских элит на новые и старые группы, на тех, для кого датой возникновения стали 1991 год или 2008-2009 гг.? Каким будет разделение власти между ними? Наконец, с кем будет солидаризироваться украинский средний класс? Расколется ли он на опричников старых и новых элит? Видимо, пока еще рано теоретизировать на эту тему.
Пал Тамаш, профессор, директор Института социологии Венгерской академии наук, действительный член Венгерской академии инженерных наук. Родился в 1948 г. в Будапеште. Читал лекции и участвовал в научных проектах в ведущих университетах США, Канады, Германии и Австрии. В качестве эксперта по реформированию науки и высшего образования сотрудничал с правительствами России, Украины, Грузии, Молдовы, Киргизии, Казахстана, Румынии и Венгрии. Публицист, эссеист, политический комментатор. Советник ряда венгерских правительств и премьеров социал-демократической ориентации.